Братья-соратники
По Божественному смотрению еще задолго до великой битвы ковался меч, поразивший Мамая. Князь Димитрий был старше своего двоюродного брата на три года: он родился в 1350 году, а Владимир – в 1353. Лишившись отца, девятилетний Димитрий сделался великим князем: по существу, княжеством правил митрополит Алексий, княгиня-вдова и старшие бояре, но отроку рано пришлось и самому вникать в государственные дела. Владимир Андреевич родился на сорочины по собственном отце. Его вырастила благочестивая княгиня-вдова. Духовным наставником и воспитателем братьев стал святой митрополит Алексий, понимавший, что для будущего благополучия Московского княжества и Церкви эти два отрока должны с детских лет утвердиться во взаимной братской любви и оказывать друг другу поддержку. Старания святого наставника увенчались успехом: Владимир стал опорой и душой всех начинаний князя Димитрия. 
Митрополит и бояре утвердили малолетнего Димитрия на великокняжеском столе, не уступив это право Суздальскому князю Димитрию Константиновичу, старшему из князей, получившему ярлык от прежнего хана. Димитрий же Московский имел ярлык от хана правящего. Малолетний князь Димитрий участвовал в битве московской рати с дружиной Суздальского князя Димитрия Константиновича в 1362 году, «посаженный на конь» боярами вместе со своим братом. Впоследствии Суздальский князь примирился с юным князем Московским и отдал за него свою двенадцатилетнюю дочь Евдокию. 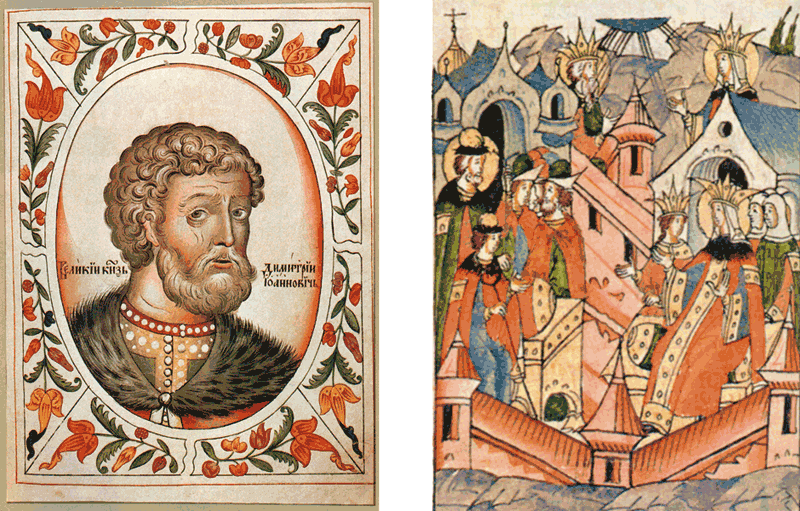
Этот брачный союз оказался на редкость счастливым не только для самого великого князя, но и для всего княжества: Москва обрела в лице княгини Евдокии мудрую правительницу, заступницу, великую молитвенницу, одну из тех, кто вымолил у Бога победу на Куликовом поле. Князь Владимир Серпуховской присутствовал на трехдневных свадебных торжествах в Коломне, которые состоялись в 1366 году. По возвращении в столицу помогал молодым супругам утвердиться на княжении. Вместе с ними он восстанавливал Москву, сильно пострадавшую за полгода до того от Всехсвятского пожара, участвовал в строительстве каменных стен и башен Кремля (1367 год). Владимир Андреевич повсюду являл себя защитником доброго имени и чести великого князя и его княжества. В 1368 году князь Владимир со своим войском изгнал литовцев из Ржева и выдержал вместе с братом, митрополитом и боярами осаду Москвы Ольгердом Литовским. В следующем, 1369 году он отправился в Новгород и встал во главе войска, защитившего Псков от набега ливонских рыцарей. В сражениях братья-князья снискали себе славу опытных военачальников. В эти годы на службу к ним перешел бывший суздальский тысяцкий Димитрий Михайлович Боброк-Волынский, лучший воевода Руси, у которого князья-братья учились военному делу. 
В 1370 году Ольгерд снова осадил Москву, но на сей раз осада была недолгой, восьмидневной, так как Ольгерд узнал, что Владимир Андреевич собрал под Перемышлем сильное войско. Опасаясь не только столкновения с Серпуховским князем, но и возможной погони, Ольгерд запросил у Димитрия Иоанновича вечного мира и предложил выдать свою дочь за князя Владимира. Между тем Тверской князь Михаил повел борьбу за ярлык на великое княжение. До середины 1371 года братьям пришлось дважды пресекать попытки Михаила Тверского, породнившегося с Ольгердом, присвоить себе великое княжение и захватить чужие земли. В 1371 году, в то время, когда Димитрий Иоаннович находился в Орде, в Московское княжество прибыли литовские послы, чтобы «докончати мир». Можно предположить, что на это был уполномочен Владимир Андреевич. Тогда же состоялось оговоренное прежде его обручение с Еленой Ольгердовной, а в конце года, по возвращении брата из Орды, Серпуховской князь сыграл свадьбу.
Некоторые историки сомневаются в том, был ли счастлив князь Владимир в семейной жизни, но эти предположения исходят, скорее всего, из недопонимания сущности христианского брака. В наше время супружеское счастье оценивают по температуре кипения страстей, во времена же Димитрия Донского и Владимира Храброго родители, сговариваясь о свадьбе своих детей, знали, что единственным прочным основанием брака является любовь ко Христу и во Христе, которая, начинаясь на земле, простирается в Царство Небесное. Для заключения княжеского брака на Руси в обычае было выбирать супругу, готовую разделить с князем любовь к земному отечеству и ответственность за его судьбу. Несколько опережая события, нужно сказать, что супруга князя Владимира, попав по милости Божией в святую семью, духовным наставником которой был преподобный Сергий Радонежский, всей душой приняла православную веру, высокий дух и благочестивые обычаи этой семьи. До конца своих дней она покровительствовала Богородице-Рождественскому монастырю, попечение о котором ей было поручено и завещано самой схимонахиней Марфой. Овдовев, Елена Ольгердовна посвятила жизнь заботам об обители и, оплакав смерть всех своих семерых сыновей, приняла в ее стенах постриг с именем Евпраксии. Если вспомнить о том, что Елена Ольгердовна была дочерью язычника, воспитывалась при дворе, где процветали жестокость, коварство и пороки, то можно взглянуть на счастье супругов несколько по-иному, оценивая его как совместное приближение к Царствию Божию.
Итак, оба брата стали семейными людьми. Обустроив свои дома и свои собственные уделы, они много сил положили на обустройство их «общего дома» – Московского княжества. В то время необходимо было уметь, образно говоря, держать в одной руке заступ, а в другой руке – оружие. Братья учились и тому и другому сообща. Они наладили отношения с вольным Новгородом; окончательно «замирили» Тверского князя; возводили новые города (один из них – Серпухов, основанный Владимиром Андреевичем; город, который он повелел «срубити в едином дубу» – из лучшей и прочнейшей в той местности древесины); не один раз воевали с Литвой, где по смерти Ольгерда начались большие смуты; пристально наблюдали за преемником Ольгерда – хитрым и коварным Ягайлой; терпеливо и не торопясь выстраивали свои отношения с русскими князьями – будущими соратниками в Куликовской битве. Московское княжество постепенно набирало силу. Многие из удельных князей начали сознавать необходимость единства и подчинения великому князю.
Нарастанием и объединением русских сил были обеспокоены те, кто боялся возвышения Москвы. Орда не желала терять подвластные ей разрозненные русские княжества, да и в Европе, несмотря на то, что Русь прикрывала ее восточные рубежи от нашествия монголо-татар, находились зложелатели. Во время княжения в Москве Димитрия Иоанновича в Золотой Орде к власти пришел временщик – темник (командующий десятитысячным войском) Мамай. Он не был потомком Чингисхана и не мог быть провозглашен ханом. Однако он пользовался в Орде почти неограниченной властью. Существует историческая версия, что Мамай был наемником фрягов – генуэзцев4. Будучи человеком честолюбивым, Мамай ради власти, славы и денег был готов нанести Руси окончательный удар. Он был умным и деятельным военачальником и учел ошибку Батыя, который разорил Русь и ушел обратно в Орду, оставив русские княжества на волю сборщиков дани – баскаков. Мамай собирался сесть на Московском столе, а в Орде оставить «царствовать» управляемого им же, Мамаем, хана. Для того чтобы поднять всю Орду против Руси, Мамаю необходим был повод. И такой повод нашелся очень быстро.
В 1374 году нижегородский люд, возмущенный наглым поведением мамаевых сборщиков дани, перебил не только их, но и пришедших с ними ордынских воинов, численностью до полуторы тысячи человек. В Нижнем Новгороде княжил тесть Димитрия Иоанновича, и Мамай решил, что восстание произошло с негласного одобрения Московского князя. Дело усугубилось еще и тем, что в народном возмущении принимал участие сын Суздальского князя. Князья Димитрий и Владимир не имели к нижегородским событиям никакого отношения. Напротив, они понимали всю бесполезность стихийных возмущений, следствием которых явился разгром Нижнего Новгорода войском монголо-татар. Защищая Нижний Новгород, князь Димитрий Иоаннович допустил ряд ошибок и недооценил силы противника. Рядом с ним в то время не было ни его брата – Владимир воевал с литовцами, ни волынского воеводы – тот покорял Волжскую Булгарию5, где правили татарские ханы. Однако Московский князь учел свои ошибки и в битве на реке Воже в 1378 году впервые наголову разгромил ордынцев: мурза Бегич, любимец Мамая, и все ханские эмиры с войском в страхе бежали. Сражение на реке Воже можно было бы назвать «генеральной репетицией» Куликовской битвы.  Великий князь встретил противника за пределами своего княжества в чистом поле, чего не случалось уже более 150 лет, со времени битвы на реке Калке. В том бою он заручился братской поддержкой удельных князей Северо-Восточной Руси, что имело важное значение для исхода битвы.
Великий князь встретил противника за пределами своего княжества в чистом поле, чего не случалось уже более 150 лет, со времени битвы на реке Калке. В том бою он заручился братской поддержкой удельных князей Северо-Восточной Руси, что имело важное значение для исхода битвы.
Такого поражения Мамай стерпеть не мог. Он собрал несметное войско (более 350 тысяч воинов). Даже Батыю никогда не удавалось собрать подобное полчище. Мамай привлек на свою сторону литовского князя Ягайлу и пытался привлечь Олега Рязанского, в ту пору враждовавшего с Москвой. Доподлинно не известно, собирался Олег выступить против Московского князя на стороне Мамая или нет: разные исторические источники содержат об этом противоречивые свидетельства. Известно лишь, что он окончил свою жизнь всеобъемлющим, искренним и деятельным покаянием и достиг святости. Московский и Серпуховской князья ясно понимали, что 350-тысячное войско Мамая должна встретить такая же по численности рать, и встретить в честном бою, лицом к лицу в чистом поле. Действовать по-другому было невозможно – слишком велики были силы противника. Нельзя было пропустить вражьи полчища к центральным княжествам – они разгромили бы Русь. Это понимали и другие князья, поэтому они дружно откликнулись на великокняжеский зов. На помощь пришло гораздо больше князей и их бояр, нежели предполагалось изначально. Войска двинулись со всех концов Русской земли. Пришли полки даже из тех княжеств, которые противились возвышению Москвы: из Рязани, Твери и Вольного Новгорода. Собрались отряды из близких к Московскому княжеству Ярославля, Ростова, Мурома, Владимира и других русских городов. Князья шли на битву целыми семьями: с сыновьями, ближними и дальними родственниками. Только Белозерских князей собралось четырнадцать!
И все же общих сил едва хватало, чтобы противостать Мамаю. Необходимо было, чтобы Ягайло и Олег не смогли объединиться с ордынцами. Для этого понадобились отвлекающие маневры, осуществление которых взял на себя Владимир Андреевич и, по свидетельству летописцев и историков, прекрасно с этим справился6. Братья объединили свои силы с силами прочих князей и бояр в Коломне и на пути к Полю. В «Слове о Великом князе Димитрии Иоанновиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, яко победили супостата своего царя Мамая», для краткости называемом «Задонщиной», его автор, Софоний Рязанец, так описывает соединение князей: «Это не орлы слетелись – съехались все князья русские к великому князю Димитрию Иоанновичу и брату его Владимиру Андреевичу. И сказал им князь великий Димитрий Иоаннович: "Братья и князья русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского. Не в обиде мы были по рождению ни соколу, ни кречету, ни чёрному ворону, ни поганому Мамаю. <…> Господи Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь в век и не посмеются враги надо мной"»7.
В слове, вложенном в уста великого князя автором-иноком, мы видим две идеи и свидетельство о двух основных силах, даровавших победу русскому воинству: то были братский союз любви между князьями и русичами всех княжеств и помощь Божия, дарованная Свыше тем, в чьих сердцах воцарились смирение и любовь.
4. Энциклопедия Куликова поля: Литературно-художественный журнал "Поле Куликово". Новомосковск Тульской области, 1996. С. 28, 237-246.
5. Волжская Булгария – государство, находившееся в ХIV веке в районе Камы и Средней Волги, населенное народом тюркского происхождения – протоболгарами, или праболгарами. Другая часть этого народа «осела» при Дунае и, смешавшись со славянами, образовала болгарский народ.
6. Энциклопедия Куликова поля. С. 87–89.
7. Куликовская битва. Задонщина, М.: Дубль-В, 1995. С. 18.












